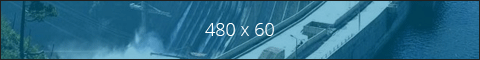| Главная » Статьи » Публикации |
| — Как ты себя чувствуешь? — Хорошо. Наконец-то выспалась. Сейчас как-то прихожу в себя. От всего произошедшего. Пытаюсь разобраться с тем, что происходит вокруг.От каких-то мелких дел до … Например, я забирала вещи из СИЗО вчера. Надо дальше разбираться с документами, которые у меня изъяли, с техникой — где она находится… — Ну то есть всё должны вернуть, да? — Да, должны. Вроде бы в приговоре записано, что должны. Следствие прекращено, это уже не вещдоки. — Странно было приходить в СИЗО? — Да, я никогда не заходила туда в таком статусе. Я зашла в помещение, где заказывают продукты. Потому что мы еще передавали продукты девчонкам. Я наконец-то увидела, что делают люди, которые приносят передачи. Вот папа мне приносил поесть каждую неделю — и я сейчас была на его месте. — Как там кормят? — Там неплохо кормят на самом деле, такая диетическая еда. Может быть, она кому-то не нравится, может быть, там кто-то любит жареное, но на самом деле там хорошая еда. Горячая. С утра каша, иногда с молоком, иногда на воде. Обед там — суп обязательно и тоже какая-нибудь каша. Либо гороховая, либо картошка — что-то такое. Ну и ужин — то же самое. Либо ячка, либо картошка, либо горох. Раз в неделю, по-моему, рыбу давали. Иногда сбои были — просто не доезжала до нас эта рыба, доставалась другим камерам, а нам уже нет. Когда холодно — это селедка, а летом они дают вареную рыбу. Вот это очень вкусная вещь была. —Белая такая, как в больнице? — Да, белая. —Тебе нормально продукты доходили с воли? — Да, доходили. От папы. И еще несколько раз — я не знаю этих людей — присылали сухофрукты, орехи. Было очень приятно. — Много народу в камере? — Спецкамера, она рассчитана на четыре человека и была занята полностью. Первый этаж — он весь занят бывшими сотрудниками полиции. И вот для них почему-то выделяются эти спецкамеры. Несколько камер на четырех человек, несколько на двенадцать. В общей камере проблемы с безопасностью, наверное… По крайней мере нам так объясняли. И, конечно, нас проще контролировать. С сокамерницами постоянно разговаривали оперативники, пытались узнавать, какая обстановка в камере, пытались как-то манипулировать этим. Хотя прямого давления никогда не было. — Когда ты голодала, это было связано с какими-то конфликтами внутри камеры? — У меня было две голодовки. Это не было конфликтом, это было провокацией оперативников. Они ходили, разговаривали с моими сокамерницами — всякие гадости врали про меня. Что я даю какую-то личную информацию об этих людях в Сеть, даю в СМИ. Естественно, людей это взбесило, они ко мне очень плохо относились. Это была одна из причин. — С кем ты сидела в последнее время? — Экономические заключенные. — Все экономические? — Они все всегда были экономические, да. Люди менялись, но всегда 159-я. И, как правило, часть четвертая. То есть особо крупные размеры. — Как тебе эти люди? — Очень разные. Была девушка из Осетии. Она приехала сюда, ее обманули с кредитом, она же еще и села. Пять месяцев до моего выхода. И должна просидеть семь месяцев всего, ей дали такой срок. Хотя она — пострадавшая. Ее же обманули. — Люди, которые там сидят, отличаются от тех, с кем ты общалась на воле? — Да, конечно. Я раньше не общалась с людьми, которые занимаются бизнесом. А там, не считая вот этих несчастных, с кредитом, все бизнесмены. Наша старшая по камере была достаточно политически осознанна. То есть она понимает, что происходит в стране, что происходит с нашим обществом. Она меня поддерживала очень сильно, понимала, что эта протестная акция очень важна. — Ты обсуждала с ними идеи группы? — Сначала нет, потому что я сразу взяла 51-ю (ст. 51 Конституции позволяет не свидетельствовать против себя. — Е. К.), и я не могла говорить ни о чем. Как только пошли суды — начала объяснять. И всё было принято. Люди меня поддержали. Старшей по камере нравилось само название — Pussy Riot. Она как-то переводила очень странно, такой очень добрый перевод — «агрессивные письки» — кажется, так. Она себя не признает феминисткой, но она по стилю жизни очень похожа на феминистку. Считает, что любой человек должен быть независимым экономически и политически. Женщина должна иметь доступ к власти, к деньгам, это очень важный момент. Очень много экономических заключенных-женщин считают вот именно так. Хотя по поводу денег отдельный вопрос. Мне не очень нравится, когда человек занимается бизнесом и знает, что его бизнес навредит, скажем так, неким социальным сферам. Когда человек делает это за счет других людей и оправдывает это тем, что «мне тоже нужны деньги, у меня семья» и так далее. — Бывает же социально ответственный бизнес. — Боюсь, что в России такого бизнеса нет. — Скажи, как на этапе следствия всё происходило? — Странно. Сначала ничего не происходило. Потом, наконец, начал ходить следователь. Были очные ставки, в которых выяснилось, что потерпевшие ничего не помнят толком, путают показания. Ранченков (следователь. — Е. К.) даже прерывал их. Они отвечают, а он говорит: «Нет-нет, вы не должны были отвечать». У нас было несколько конфликтных ситуаций, просто уже ругались. Мы утверждали, что уже ответил потерпевший, а Ранченков: «Нет, он не ответил. Я сказал, что не надо было отвечать». И он еще ругал потерпевшего: «Зачем вы ответили, я же вам говорил! Вы смотрите на меня, а я вам скажу — отвечать или не отвечать». То есть шло прямое давление. Дальше уже пошло ознакомление с делом. Ранченков к нам уже не ходил, ходили эшники (сотрудники центра противодействия экстремизму МВД. — Е. К.). Им по тридцать-сорок лет. Они так сразу и сказали: мы из центра «Э», но ничего не будем делать, просто читай. Но попутно всё-таки намекали: «Ну вы всё-таки сделали хулиганство, ну, может быть, вам дадут ну года два… три…» Естественно, я спорила, я говорила: «Это не было преступлением, это не хулиганство». — «Это ты так говоришь, на самом деле всё общество считает вас хулиганками». Иногда я уставала читать — дело невозможно читать несколько часов подряд, после часа работы нужен отдых. А они требовали, чтобы мы всё время сидели. Иначе бы они записали в протокол, что мы отказываемся от прочтения дела. И да, какое-то время мы просто тратили на эти споры политические. И выяснялось, что система воспитывает этих людей особым способом. Они просто не могут себе представить, что граждане могут как-то сорганизоваться сами и что-то сделать. Они не верят, считают, что за нами кто-то стоит, «ну вам же кто-то платит»… Совершеннейший бред. — Но они искренне это говорили. — Да, конечно, очень искренне — «какой-то лидер у вас есть» или «кто-то за вами», «как вы все это делали», «не может быть, чтоб вы сами»… Мы объясняли: те, кто это делал, кто придумал и организовал,— перед вами. Но они еще большие сексисты. То есть интересно, что наша система, эти сексистские взгляды — они становятся… Именно сотрудники полиции и вот эшники — они вот почему-то особые такие сексисты. Они не могли поверить, что вот именно девушки способны на что-то подобное. Поэтому понятно в том числе и личное раздражение Путина на нас. Это видно даже по недавнему его интервью — у него явно какая-то личная уже неприязнь. Мало того что он просто как президент недоволен. Но еще вот это раздражение, что какие-то девушки, какие-то женщины посмели сделать такой жест. И сделали это сами. Вот это его, конечно, оскорбило, как такого мачистского лидера. У него явно выстроен этот образ, и это по нему ударило. — Но они, конечно, очень старались найти организатора. — Но не нашли, потому что его просто нет. — В тюрьме удавалось спать? — Да, отбой в десять вечера. Включается маленькая лампочка, она там многим мешает, но можно привыкнуть. Я просто накрывалась одеялом. А где-то в шесть утра включается свет большой. И можно тоже поспать, но в семь часов завтрак — он возится на каких-то тележках железных, и они громыхают просто на всё СИЗО. Когда едет эта тележка, всем слышно — завтрак едет. Мало кто завтракает по утрам, потому что все хотят спать. После грохота можно опять заснуть. Вот так вот, с перерывами… Часы там запрещены. Но в камере был телевизор, и в уголке экрана было время. Последний месяц уже без телевизора жили, его унесли. Ориентировались по звукам, по свету. Нельзя было пропустить проверку, иначе записывали нарушение. И мы с рассветом вскакивали и по два часа ждали, когда придут. Днем надо заправлять кровать, но можно лежать на одеяле. Летом было жарко, но осенью похолодало — то там многие платки покупали, куртками накрывались. Еще открыто окно. На ночь его закрывают, а днем — нет: там курят, вытяжка плохо работает. И если один человек простужен, желательно проветривать, иначе все будут заражены. Ну и батареи там плохо работают. Когда я была в последние дни, включили отопление, но у нас были холодные батареи. У всего крыла там не работали батареи. Я помню, это обсуждали работники. Холодно зимой, говорят, очень холодно. — Сами работники как к вам относились? — По-разному. Сначала они были насторожены. А потом, когда пошел судебный процесс, видно было такое четкое разделение на тех, кто относится с симпатией, я на себе это чувствовала. И тех, кто так ненавидит откровенно, считает, что мы правильно сели, даже мало дали. Но в процентном соотношении сложно сказать, наверное, пятьдесят на пятьдесят. — Возникало вообще за эти шесть месяцев у тебя чувство бессилия? — Вот на суде — да. Потому что нас там затыкали. Разрешалось исключительно произнести показания, все остальное время нам просто не давали говорить. Ходатайства все отклонялись. И возникло ощущение, что если бы мы могли просто выйти из зала и не присутствовать, всё равно бы это всё происходило так же. Неприятно. — Тебе мешало физическое состояние воспринимать процесс? — Очень мешало, это была главная проблема. Мы это пытались объяснить всем. Мы, конечно, понимали, что это делается специально, чтобы просто нас измотать. Но надеялись, что, может быть, всё-таки нас пожалеют. Мы не падали в обморок, не было проблем со здоровьем, но была проблема — ну, скажем так, — мозговой активности. Потому что у тебя все время шум в голове, ты постоянно хочешь спать. В аквариуме было плохо слышно и моментами было вообще не понятно, что происходит в зале. Мы просили говорить громче, человек говорил громче десять секунд и опять снижал голос. И в итоге мы вообще половины не понимали, что происходит: сейчас вызов свидетелей или какой-то другой этап судебного процесса? Ты поднимаешься, потом плюхаешься на эту скамейку в аквариуме… А надо участвовать, как-то надо кричать… — Ты засыпала пару раз. — Да. Я решила просто спать в какие-то моменты, чтобы хотя бы достойно дать показания. Мы боялись, что прения и заключительное слово они сделают в один день. Но они почему-то решили разделить, и мы более-менее подготовились. — Как тебе судья Сырова? — На самом деле она там не такой главный персонаж, как все мыслят. Она не так уж сильно повлияла на всё. До этого, насколько я знаю, у нее не было громких дел, и, видимо, ее решили поставить как человека одного процесса. Она вела себя достаточно странно. Когда мы знакомились с делом, она проходила мимо нас и как-то улыбалась, как-то шутила неуместно. Потом был эпизод с собакой… Нас человек с собакой сопровождал все время, разные собаки были. В этот день собака спала, и почему-то судья решила просто выйти из своей комнаты к нам. И кормить эту собаку печеньем. Человек, который контролирует собаку, объяснил ей, что так не надо делать, но она его игнорировала. А он же не может ей приказать — она судья. Она начала кормить собаку, пихать ей печенье, собака жутко возбудилась, она просто встала на задние лапы, он начал ее оттаскивать, начал ее успокаивать. Пес полчаса не мог успокоиться. Сотрудник в конце концов сказал ей, что пес просто сейчас ей откусит руку. А она поулыбалась, пошутила и ушла. Очень яркий персонаж, по-моему, это секретарь суда. Девушка, которая все время жутко раздражалась на наше желание сделать перерыв. Мы просили как-то не с утра начинать ознакомление или как-то поменьше времени нам давать, потому что это изматывает. Она всё время с таким раздражением эти тома приносила, с таким вот видом, как будто мы совершаем преступление, когда просим смягчить то, что происходит. Я так понимаю, секретарь потом становится судьей. Ну вот, видно, судья будет еще та из этого секретаря. Мне задавали вопрос в каком-то интервью: «Вот женщина ведет ваш судебный процесс. Не является ли это признаком феминизма?» Естественно, нет. Судья Сырова явно не феминистка. В приговоре было сказано, что у нас была ненависть только потому, что мы причисляем себя к феминистскому движению. То есть только потому, что мы феминистки, из-за этого и сидим. Так впрямую и было написано. И как бы феминистка не могла даже зачитывать такой текст. Странная идея, что если женщина занимает какой-то пост, который может занимать мужчина, то это уже победа феминизма. Но это просто механическая перестановка тел, не более того. Правила игры не меняются. Сексизм — дискриминация, стигматизация — не уходит никуда. Наоборот, это становится формальным поводом говорить о том, что нет проблем с равенством мужчин и женщин. Мой папа до сих пор искренне говорит: «Почему ты феминистка? Ну нет же таких проблем! Вон сколько теток там сидят где-то на верхушке…» Ну, во-первых, не так уж и много –секретари, менеджеры, но очень мало руководящих постов у женщин. И они все равно занимают эти посты по тем же правилам, которые не совпадают с идеями феминизма. — У судьи Сыровой, конечно, не было осознания, что вы боретесь и за ее права тоже. — Нет, очевидно, нет. Может быть, она даже причисляла себя к этим оскорбленным верующим, судя по ее шуткам против нас и против наших адвокатов. Когда мы вызывали «скорую», это была попытка как-то обратить внимание на то, что мы плохо себя чувствуем и не можем просто участвовать в процессе. В ответ — несколько шуток по поводу того, что вы очень здоровы, все прекрасно. Несмотря на то что Маше, например, делали укол — у нее упал сахар в крови. Такая неуместная ирония. — Как тебе удавалось общаться с другими девочками? По дороге в перевозке? — Да, только по дороге. И то перед показаниями нас разделяли. Меня посадили в стакан, Машу в стакан, а Надю в коридор. Старались разделять, но, как правило, конвоир нам разрешал внутри быть вместе. Там два коридора и стаканчики такие, где заключенные по одному человеку сидят. Вот. И нам разрешалось в одном коридоре сидеть. Он нас просил — только не говорите, что вы сидели вместе, этого нельзя. Вы должны быть раздельно, но я просто вам делаю скидку, я к вам хорошо отношусь. Конвой нас жалел. Источник: http://www.novayagazeta.ru/politics/54947.html | |
| Просмотров: 352 | Комментарии: 2 | | |
| Всего комментариев: 0 | |